Театральный институт: абитуриенты глазами педагогов
Буткевич М.М.:Все началось на первом туре приемных экзаменов, тогда, когда…
—… когда я попросил Лену Родионову, после того как она на приличном среднем уровне прочла знаменитую басню И.А.Крылова о синице-поджигательнице: а не могли бы вы, дорогая, показать нам несколько птиц из тех, что прилетели поглазеть, как самонадеянная синица будет жечь море? Лена отошла в самый дальний угол эстрады и полетела оттуда на комиссию мощной и гордой орлицей, затем, отбежав в другой угол, впорхнула на авансцену шустрой и трусливой воробьихой, потом превратилась в жирную голубку и пошло заворковала; комиссия оживилась, а счастливая абитуриентка устроила целый птичий базар: куковали кукушки, рыдали чайки, щебетали ласточки, ухали совы — поджог моря становился событием века.
—… когда Валера Бильченко робко, словно бы извиняясь за свою неуместную наглость, спросил у приемной комиссии разрешения прочесть монолог Гамлета “Что он Гекубе, что ему Гекуба?” и начал читать его: ровно и осторожно, в той ложной бесстрастной и бескрасочной манере а ля Смоктуновский, которая у нас из чистого недоразумения моды считается признаком высокой интеллектуальности, а я, не вытерпев, остановил его и поинтересовался, знает ли он, хотя бы в общих чертах, что такое провинциальный трагик в дореволюционном театре? Тогда молодой интеллектуал, пораженный догадкой о приближении некорректного задания, сообщил с долей брезгливости, что тогдашние трагики наигрывали и, насколько ему известно, наигрывали безбожно, я тут же попросил его начать свой монолог заново именно в знаменитой манере Рычалова; он попробовал, но недостаточно смело, тогда я крикнул: голос! Дайте голос! Он дал, а я потребовал еще и тигриную походку, а затем коронный прыжок Рычалова; абитуриент прыгнул на стол и зарычал, а я, радуясь удаче, стал умолять его: в клочья! Рвите страсть в клочья! Наш Гамлет проснулся, объявился темперамент, прорезался мощный тремолирующий бас — Валера вошел во вкус; дрожали стекла в оконных рамах, звенели металлические детали в лампах дневного света, комиссия рыдала от смеха и тихj сползала под стол; я знаками благодарил разбушевавшегося артиста и просил закончить, но он не мог остановиться: разрешите поддать еще немного — тут совсем небольшой кусочек, — и он продолжал; слетела фальшивая личина наигрыша, осыпалась шелуха пародии, Валерий был теперь предельно искренен, и сразу стало понятно, что он сможет когда-нибудь сыграть знаменитую роль.
— … когда Ира Томилина, прочитав одно из прекрасных цветаевских стихотворений весьма эффектно (скупая, вычисленная и выверенная жестикуляция, несколько механическая, как говорят, сделанная эмоциональность, слегка периферийный блеск формального мастерства), ждала в короткой паузе, чего еще захочет от нее уважаемая комиссия, а я, довольно сильно раздосадованный этой демонстрацией техники, потому что уже на первой консультации почувствовал в молодой актрисе, обладающей прекрасными внешними данными, гораздо более глубокое дарование, начал с садистской безжалостностью информировать членов комиссии о том, что вот, мол, товарищ Томилина и ее муж вместе поступают к нам и, естественно, желают вместе быть зачисленными в институт, но что положение в этом смысле очень неблагоприятное (мест чересчур мало, а желающих чересчур много) и что мы не сможем принять обоих супругов; “товарищ Томилина” побледнела и затаила дыхание — она, вероятно, очень любила своего мужа, но и в институт попасть хотела ничуть не меньше; противоречивые чувства и так раздирали молодую женщину, а мне было мало, я дожал ее до упора, сообщив, что ей, конечно, будет поставлена пятерка, но что это ничего не значит, и она сможет, если сочтет нужным, уступить свое место мужу; наступил шок — краска залила лицо, слезы брызнули из глаз, свергнул умоляющий и укоряющий взгляд; приближалась истерика, но я не дал последней разразиться, я лепетал что-то, умоляя Иру простить мне мою жестокость, извинить мне то, что я превратил экзамен в испытание, в пытку, я клялся ей своей честью, что они будут приняты обязательно оба, как бы ее Юра ни сдавал экзамены, что я уже теперь, заранее допускаю его до коллоквиума без всяких чтений и этюдов, а, главное, я просил ее снова читать Цветаеву — сейчас же, немедленно, не успокаиваясь, без передышки, без пересадки; и она начала читать, потому что она была актриса, и читала она, конечно, прекрасно, и это была грандиозная поэзия, поэзия страсти и ненависти, метафора жизни и смерти. Мы поблагодарили и остановили артистку, я оправдывался, счастливый от того, что эксперимент получился, а Ира плакала, плакала и плакала, не в силах остановиться, но теперь уже от радости и, улыбаясь, махала на меня рукой, не нужно, мол, извиняться, все в порядке, все OK. (Так, готовясь к “Королю Лиру”, еще не зная о нем и его не предвидя, мы учились работать по живому, не боясь причинить себе боль, резать себя без наркоза. Я учил их отвергать анестезию мастерства.)
—… когда я, солидный педагог, набирающий курс, и Володя Гордеев, незначительный претендент, один из нескольких сотен абитуриентов, пытались надуть и обыграть друг друга: первый ход сделал он — явился на экзамен в совершенно непотребном “костюме”: на нем были надеты только старые и драные бумажные джинсы, короткие, с обтрепанной бахромой, маечка-безрукавочка, отслужившая свой век, крестик на тоненьком шнурочке и пляжные резиновые туфли на босу ногу, — наверное, он рассчитывал этим выделиться из толпы, но тут и я сделал свой первый ход — разорался о неуважении абитуриента к комиссии, к экзамену и попросил его удалиться; тогда он стал оправдываться вяло и сбивчиво, а кто-то из абитуриентов подошел ко мне сзади и шепнул на ухо, что Гордеев ночует на вокзале и что его как раз сегодня ночью обокрали, унесли всю одежду; столь необычный и вызывающий сочувствие факт нейтрализовал мое раздражение, тем более что я вспомнил, как сам, приехав поступать в ГИТИС почти тридцать лет назад, ночевал на кафельном полу Казанского вокзала чуть ли не целую неделю; Гордееву разрешили читать; он разволновался и делал жалкие попытки сохранить свое достоинство после изгнания, вместо нормального чтения стихов и басни пускался в независимые философские рассуждения, но пессимистический экзистенциализм с винницким акцентом успеха у комиссии не имел, и вся она единодушно уговаривала меня закончить возню с этим молодым нахалом, я же, раскаиваясь в своей неоправданной и поспешной резкости, хотел выудить из поступающего хоть что-нибудь, говорящее об его актерской одаренности, настырно пытался проникнуть в его человеческую суть, достучаться до его сердца и, конечно, безуспешно — он был наглухо закрыт, глупо и упрямо прикрывался наносным, как мне почему-то казалось, цинизмом: есть ли для вас хоть что-нибудь святое? — сорвался я на педагогическую патетику; нет, —спокойно ответил он, защищая из последних сил свой внутренний мир, но меня уже осенило, я уже понял, что с ним надо делать; я попросил его спеть что-нибудь; что вам спеть? — Ну хотя бы “С чего начинается родина…”; аккомпаниаторша заиграла вступление, отступать ему было некуда, и он запел, тихо-тихо, просто-просто, с такой пронзительной задушевность, что в зале мгновенно воцарилась мертвая тишина и все кроме этой песни перестало существовать, настолько сильной и покоряющей была власть актерского откровения, исходящая от этого оборванного и босого охламона, “а мооооо-жет-о-на-на-чи-нааааааа-ет-ся” — голос его дрожал, а мы все седели и слушали, задерживая вздохи и слезы, потому что сентимент и расхожая лирика были здесь неуместны и мелки, потому что и для нас, “сегодня, здесь, сейчас” пела открытая настежь душа артиста; ему дали допеть до конца, никто не решился перебить, остановить чудо творческого акта; как я ни настаивал на пятерке для данного абитуриента, комиссия не согласилась: все-таки нельзя ведь так одеваться на экзамен, это безобразие, это неуважение… неуважение… неуважение…; ну, бог с ними, он прошел и с четверкой, но каково же было мое удивление, когда поздно вечером, после объявления оценок, Володя Гордеев подошел ко мне извиняться и благодарить, — он был прекрасно одет, в заграничном, почти новом джинсовом костюме, в красивых туфлях, аккуратно причесанный, кажется, даже подстриженный, вымытый и, конечно, счастливый. Между прочим, я тоже люблю хэппи-энды.
М.М.Буткевич: «К игровому театру»
Popularity: 1%
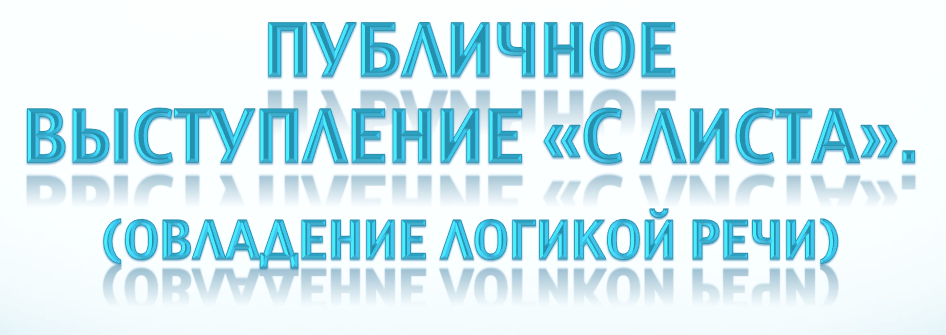







 Categories:
Categories: 